Михаил КукулевичВ граде вечного ненастья
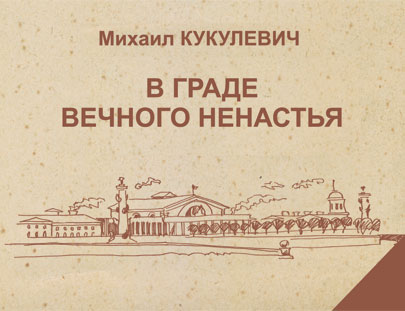 В новую книгу московского поэта и барда Михаила Кукулевича вошли стихи, посвящённые его родине – Ленинграду, написанные в течение тридцати с лишним лет.
В новую книгу московского поэта и барда Михаила Кукулевича вошли стихи, посвящённые его родине – Ленинграду, написанные в течение тридцати с лишним лет.
Кукулевич Михаил Анатольевич. «В граде вечного ненастья». Стихотворения. – М. Богородский печатник, 2015 – 256 с. с илл.
ISBN 978-5-89589-084-4

Совместимость до конца
В поэтической судьбе Михаила Кукулевича есть одно важнейшее обстоятельство, определившее, может быть, весь его творческий облик. По рождению он – коренной ленинградец: родился в 1939 году в семье Анатолия Кукулевича – по первому образованию энтомолога, по второму – филолога, учёного секретаря «Кунсткамеры», друга будущих знаменитых литературоведов Лидии Лотман и Юрия Лотмана. В сорок первом году отец будущего поэта ушёл на фронт и в начале сорок второго погиб на подступах к Ленинграду. «Вот Колпино проплыло/ Под нами, наконец./ Там братская могила,/ В ней бой ведёт отец», – скажет об этом сын спустя многие годы. Оставшийся сиротой мальчик пережил и блокаду: «А город всё не верит/ В спасение своё,/ Блокадной пайкой мерит/ Он мирное житьё».
От отца – пусть даже он и не мог его помнить – Михаилу Анатольевичу досталась любовь к литературе. Правда, образование он получил медицинское и много лет проработал детским врачом – сначала в Ленинграде (там он создал городскую станцию педиатрической скорой помощи), а затем в ближнем Подмосковье, куда судьба привела его в восьмидесятые годы и где он заведовал детским отделением местной больницы (Старая Купавна) и детской поликлиникой (город Железнодорожный). Свои медицинские труды Михаил Кукулевич подробно описал в прозаических «Записках детского врача». Говорят, он был замечательным доктором. Но, как сказано в его стихах, «ни к чему с судьбою спорить»: поэтическое творчество, поначалу для него занятие как будто любительское, постепенно вышло на первый план и воспринимается им теперь, наверное, как главное призвание и дело жизни.
Так вот, смена места жительства и оказалась поворотным событием в биографии Михаила Кукулевича. Когда город отдалился от него в пространстве – стало ясно, что именно Петербург есть главная точка отсчёта его судьбы, его личный «Гринвич». И чем больше проходит времени – тем острее ощущается эта связь, эта «совместимость до конца», если перефразировать концовку одного из стихотворений поэта: «Видимо, кровь у нас общая с городом этим,/ Вот почему до конца совместимы мы с ним». Потому и итоговая на сегодняшний день книга, в которую вошли стихи из нескольких авторских сборников и которую читатель сейчас держит в руках, полностью посвящена Петербургу – Ленинграду. Некоторые из этих стихотворений стали песнями: их автор – поэт ещё и поющий, принадлежащий к славной бардовской когорте, заявившей о себе в эпоху Оттепели.
«Я москвичом не стану никогда…» – сказано в одном из стихотворений поэта. Город на Неве цепко держит и не отпускает его. Лирический герой Михаила Кукулевича «намагничен» Петербургом: время от времени он садится в тридцать восьмой поезд («как тридцать лет я в него садился») – и вот наутро уже новая встреча с городом, с его улицами и реками: «Мне сравнить вас, любимые, не с кем,/ Оттого-то три раза в году/ От вокзала Московского Невским/ Я пешком потихоньку бреду». В Петербурге особенным является всё, начиная уже с вокзального перрона. Построенный ещё в середине девятнадцатого века Константином Тоном Московский вокзал видится лирическому герою совсем не таким, как тот «неухоженный», вблизи которого он живёт теперь, а «родным для сердца»: «Ведь если б не труд архитектора Тона,/ Какой бы кошмар из стекла и бетона/ Нас мог бы здесь нынче встречать». Даже по одному этому стихотворению можно понять, что лирика Михаила Кукулевича интересна конкретикой, «привязкой» к определённым местам на карте города – местам, что-то подсказывающим сердцу поэта, вызывающим ассоциации, чаще всего элегические (столь для него характерные), с прошлым ли днём, с нынешним ли: «На улице Грота и улице Даля / Мы что-то с тобой безнадёжно искали./ Отчаявшись, вышли к уснувшей реке…»; «Грустные статуи Летнего сада,/ Мрамор, уставший от бремени лет»; «Я на Троицком очнулся мосту,/ Я на воду поглядел с высоты – / Вот и жизнь моя ушла в пустоту, / Ни единой не оставив мечты». Но Петербург, в своей конкретной топонимике (и гидронимике! рекам города поэт посвятил даже отдельный сборник), не только хранит трудную память о прожитых годах – он ещё и дарит надежду, исцеляет от душевной боли: «Ты мне спасенье, Карповка,/ За все мои мытарства –/ К воде твоей стоячей/ Душою припаду».
В русской культуре трёх последних столетий одно из ключевых мест занимает так называемый петербургский миф – идея временности и гибельности города, представляющего собой как бы инородное тело на русской земле («Петербургу быть пусту»). Пусть этот миф всегда остаётся только мифом, но какую поэзию – от «Медного всадника» до ахматовского «Реквиема» – он вызвал! В этот хор входит и «скромный вокал» (выражение самого поэта) Михаила Кукулевича, ощущающего, вслед за великой русской поэзией, ущерб и урон Петербурга и выразивший его через оригинальный «непоэтический», бытовой мотив покраски фасадов: «Город ходит в мертвецах,/ На лицо ложится маска./ Но дождей не держит краска –/ Месяц, два – и снова прах/ Выступает на поверхность…» Но и эта нерадостная картина окрашена у него в тёплые, детские тона, согрета памятью ленинградского мальчика о том городе, которого уже нет: «Не напрасно ль влюблены/ Мы с тобой в руины эти,/ Как нашкодившие дети/ С поздним комплексом вины».
В поэтической картине родного города Михаила Кукулевича есть особое место, малая родина, узел всех нитей судьбы – как Арбат Булата Окуджавы или «милый сердцу уголок Знаменской и Спасской» Евгения Клячкина (нарочно называю бардов, нашему герою – «чистому» лирику – творчески близких). Это – Крестовский остров, который, в отличие от других – более близких к центру и более известных, «обжитых» культурным сознанием – городских районов, кажется, пока не имел своего поэта. Крестовский – окраина города, где в военные и послевоенные времена ничто не предвещало появления нынешнего «кошмара из стекла и бетона» (хотя кáк знать – может быть, и нынешние постройки со временем станут для кого-то источником ностальгических воспоминаний…). Обычное тогдашнее коммунальное житьё-бытьё, дворы, в которых пропадала с утра до вечера местная детвора. «Пусть там не растёт виноград,/ И холод чертовский,/ Я снова хочу в Ленинград,/ На остров Крестовский./ В забытый, затерянный рай,/ Чья песенка спета…/ Играй же пластинка, играй,/ Ты помнишь об этом!»
Затерянный рай Крестовского острова – знак пристрастия поэта к «непарадной» стороне Петербурга, к окраинной городской жизни, не менее поэтичной, чем Петропавловка или Невский проспект. Она дарует ему лирическое волнение и хранит в себе щемящую память о той поре, когда в местах его детства царили лопух и репейник, а на месте нынешнего сверхсовременного Лазаревского моста через Малую Неву стоял деревянный Колтовский и по нему ходили трамваи: «Вот остов эллинга гребного,/ Бетонный, в ржавчинах, откос./ Устои моста Колтовского,/ Река, знакомая до слёз…/ Ведь эта, сирая до дрожи / Земля, не ждущая наград, / Зовётся тоже, тоже, тоже/ Забытым словом – Ленинград». Как афористична эта концовка, сразу западающая в читательское сознание, и уже не отделаться от мысли, что был – подобно двухсотлетнему петербургскому периоду нашей истории – и семидесятилетний ленинградский, суть которого, может быть, точнее всего была невольно выражена в одном давнем газетном заголовке: «великий город с областной судьбой». Трамвай же (его можно назвать трамваем памяти), «ностальгией звеня», постоянно возвращает лирического героя Михаила Кукулевича в места его детства и юности – на Острова, через Петроградскую сторону, тоже памятную и любимую: «Вот поворот. И опять – поворот./ Каменный остров меня уже ждёт». И даже если ему кажется, что «перемен никаких» вокруг нет, всё же некий «запрещающий знак» на столбе невольно оказывается символическим напоминанием о неотвратимом течении времени: «Что запрещает он, что стережёт?/ В юность мою и проезд и проход».
Конечно, Михаил Кукулевич, будучи вообще блестящим знатоком и популяризатором русской поэзии (он охотно выступает с лекциями о ней перед самой разной аудиторией, и, думается, не один школьник и не один взрослый обязаны ему приобщением к творчеству Вяземского или Гумилёва), особенно пристрастен к поэзии петербургской. Он любит и ценит стихи Бродского, Рейна, Шефнера, но особенно близка ему, кажется, поэзия Александра Кушнера – «петербуржца из петербуржцев». На стихи Кушнера он написал несколько десятков песен – целый альбом, вышедший в 2001 году под названием «Я скажу тебе, где хорошо…» Два поэта дружны между собой, и не случайно Кукулевич посвятил Кушнеру несколько стихотворений, которые в эту книгу тоже вошли. В них обыграны творческие интересы собрата по перу и его отдельные стихи – например, знаменитое «Пойдём же вдоль Мойки, вдоль Мойки…» Михаил Кукулевич словно подхватывает этот поэтический призыв –однако не копируя чужое, а придавая ему свою ноту, пропуская через душевный опыт человека, много лет прожившего вдали от своего родного города: «Вдоль Мойки, конечно, вдоль Мойки!/ А как же иначе, когда/ Всё платит душа неустойку/ За данные в долг ей года?» Тридцать с лишним лет лирического диалога с Петербургом не есть ли та самая «плата неустойки» за разлуку с ним? Впрочем – бывших петербуржцев не бывает. Книга «В граде вечного ненастья» – лучшее тому подтверждение. Поэт, несмотря на географическую удалённость, продолжает жить в Петербурге. Я с удовольствием приглашаю читателей пройтись с Михаилом Кукулевичем по улицам и набережным города – грандиозного, но поэтически и «по-домашнему» обжитого автором этих стихов. Его Петербург не кончается – как не кончаются память и поэзия.
Анатолий Кулагин,
доктор филологических наук
* * *
Не пойду я, братцы, по миру,
До тех пор, пока одна
Колокольня Князь-Владимира
Из окошка мне видна,
Пока тихая Пушкарская
Мне дождями ворожит,
Пешеход, по лужам шаркая,
От инфаркта убежит,
И, хранимый Петроградскою,
Непарадной стороной,
Обрисует белой краскою
Посеревший профиль свой.

